Латентность — новое слово в языке стратегического управления
Воронов Ю. П., Добров А. П. Латентность стратегических решений и новые инструментальные средства. — Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2005. — 124 с.
С. А. БЕРЕЗИН,кандидат физико-математических наук,
Сибирская академия государственной службы
Книга Ю. П. Воронова и А. П. Доброва добавляет в словарь управленцев свежий термин, который, во-первых, обогащает палитру описательных возможностей новой краской, и, во-вторых, собирает на себя некоторые оттенки смыслов, «висевших» на весьма перегруженных и достаточно заезженных терминах сложившегося десятилетиями глоссария стратегического управления.
Итак, латентность — что за зверь? Авторы не спешат отвечать на этот вопрос вплоть до 25-й страницы своей небольшой по объёму книги, сохраняя заявленную в заголовке интригу — ведь из житейского опыта и словаря иностранных слов мы знаем, что «латентный — это скрытый, внешне не проявляющийся...». А это и означает, что смысл латентности в книге, ей посвященной, должен проявляться постепенно, из сделанных по ходу изложения намеков и реминисценций. Наконец, на с. 25 читаем: «Под латентностью стратегии мы понимаем неявный характер указаний на конкретные стратегические решения, скрытость ее за описанием сложившейся ситуации или в прогнозе».
В качестве иллюстрации «неявного характера указаний» в книге приводится пример с домашним роботом, который в ответ на «стратегическое указание» типа «кажется, на кухне грязный пол» может предпринять конкретные действия (естественно, запрограммированные заранее). Поскольку характер программирования этого робота никак не фиксирован, читатель может ожидать от него (в дополнение к приведенным в книге — см. рис. 1) ( с. 27) широкий спектр поступков: от перенастила линолеума на кухне до самоликвидации — такова латентность!
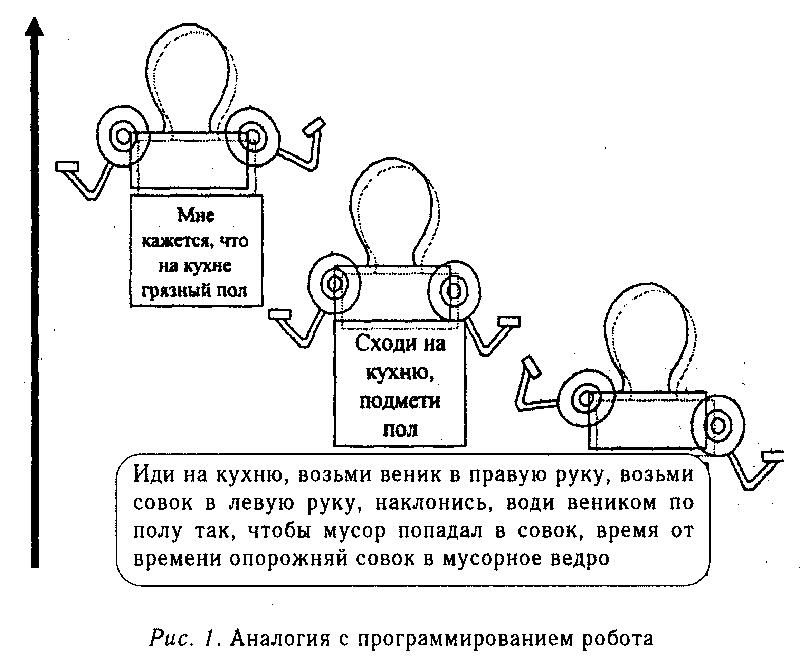
Аналогичные примеры неожиданного проявления скрытых решений можно почерпнуть в широко известных анекдотах о «новых русских». Например, когда «новый русский» меняет купленный накануне новенький «Мерседес» только потому, что в нем переполнилась пепельница.
Серьезный и продуктивный подход к рассмотрению латентности стратегических решений авторы демонстрируют, проведя блестящий анализ так называемых «стратегических матриц», хорошо известных всякому, кто изучал литературу по стратегическому управлению. Так, на примере матрицы SWOT-анализа отчетливо видно (рис. 2) (с. 30), как из характеристик сильных сторон и возможностей «проявляются» элементы стратегии, характер которой корректируется, в свою очередь, описанием слабых сторон и угроз.
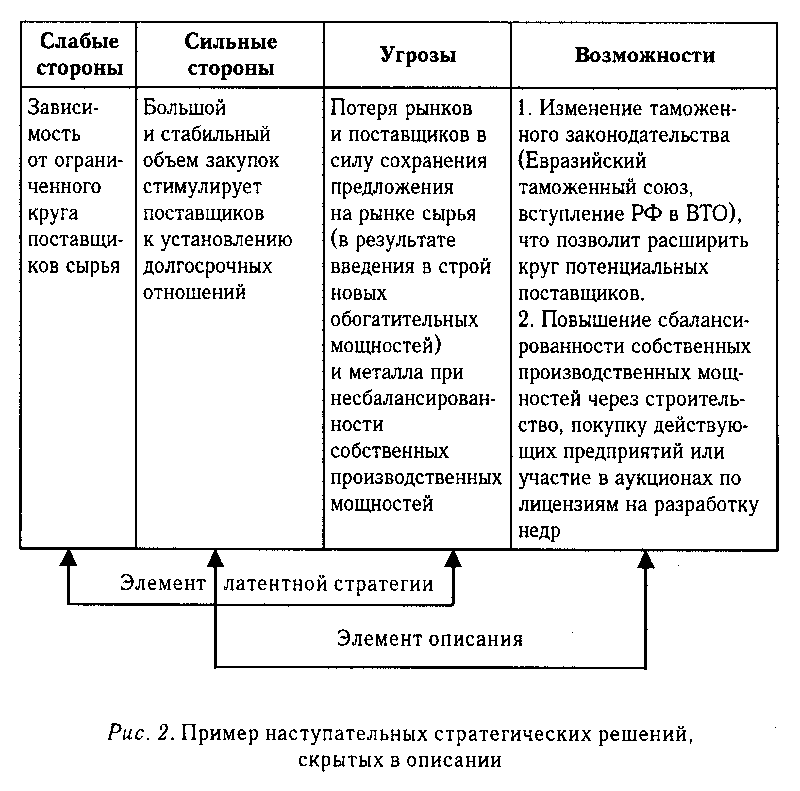
Здесь напрашивается естественная аналогия с понятиями, анализируемыми на языке нечетких (fuzzy) множеств. И, прежде всего, следует вспомнить основополагающую статью классиков теории принятия решений в условиях неопределенности — Р. Беллмана и Л. Заде[1], в которой приведена символическая формула:
Решение = Слияние целей и ограниченийРасплывчатость самой этой формулы заключается, прежде всего, в том, как интерпретировать термин «слияние». Четкий его вариант — теоретико-множественное пересечение и неопределенность — исчезает, если цели и ограничения заданы четко, чего практически невозможно добиться в прикладных задачах на тему стратегического управления. Тогда «слияние» может представлять собой сколь угодно причудливую «смесь», «агрегат», «сплав» компонент, характеризующих, с одной стороны, цели, с другой — ограничения. И решение может формулироваться достаточно нетривиально, например, если процитировать классика, таким образом.
Агафья Тихоновна. Право, такое затруднение — выбор! Если бы еще один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович недурен, хотя, конечно, худощав; Иван Кузьмич тоже недурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарыч опять мужчина с достоинствами. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно! Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. (Гоголь Н. В. «Женитьба». Действие второе, явление первое).
Решение Агафьи Тихоновны демонстрирует еще одну сторону латентности: когда стратегическое решение уже принято, оно несет в себе в свернутом виде не только достоинства (сильные стороны), позволяющие реализовать наши возможности, но и те просчеты и угрозы, которые неминуемо проявятся при неблагоприятном стечении обстоятельств и заставят нас сожалеть о своей недальновидности (то есть о неудачном стратегическом прогнозе).
Здесь уместно, по-видимому, подчеркнуть еще раз, что понятие латентности неразрывно связано с системным характером стратегии, в частности, с присущей ей эмерджентностью, что попросту означает: стратегия не есть обыкновенная сумма составляющих ее частей, ибо, объединившись, эти части образовали принципиально новое качество — и мы снова приходим к понятию «слияние» из вышеприведенной формулы.
В западной литературе по менеджменту модно цитировать известную восточную притчу[2] о том, как шестеро слепых дали описание предъявленного им слона, при этом каждый успел ощупать лишь небольшую часть этого гигантского животного. Итак, один, ощупавший ухо, сказал, что слон «похож на опахало», другой, освидетельствовавший хвост, сравнил слона с веревкой, третий, обнявший ногу, уподобил слона пальме и т. д. Иначе говоря, такое «стратегическое явление», как слон, далеко не исчерпывается подробными описаниями его частных особенностей, несмотря на то, что все эти описания верны; некоторые из перечисленн ых особенностей могут оказаться весьма полезны в дальнейшем, хотя и были первоначально скрыты. Кроме того, чтобы стратегическое решение имело достаточное понимание, исключительно важно, чтобы оно интерпретировалось каждым участником (исполнителем) на адекватном ему языке!
Таким образом, мы плавно переходим ко 2-й главе книги, где рассмотрен контент-анализ миссии компании. Понятие миссии, краеугольное для западного стратегического менеджмента, является, как справедливо замечают авторы, достаточно новым для отечественной теории и практики. С точки зрения латентности для нас важно, что миссия, с одной стороны, содержит в скрытом виде возможные стратегические решения. С другой стороны, возможность реализации тех или иных решений зависит от того, насколько удачно (полно, правильно) сформулирована миссия.
Важно отметить, что авторы трактуют понятие миссии как инструмента стратегического управления, что позволяет в скрытом (латентном) виде, используя особенности англо-русского перевода, включить в рассмотрение как черты стратегического планирования, так и стратегического менеджмента, которые обычно разделяются: «Стратегическое планирование сфокусировано на принятии оптимальных стратегических решений, в то время как стратегический менеджмент связан с достижением стратегических результатов: новых рынков, новых товаров, и/или новых технологий»[3]. В книге резонно отмечается многогранность смысла миссии: «...ее предназначение распределяется не менее чем по восьми направлениям. Каждое из этих направлений существенно, нельзя исключить ни одного». Итак, эти предназначения следующие (с. 48):
q представит в явном виде цел, ради которой создана компания, для которой существует ее коллектив;
q установит базу для определения и обеспечения непротиворечивости ее целей;
q определит отличия компании от всех других участников рынка;
q обозначит критерий для оценки действий сотрудников компании;
q согласоват интересы всех лиц, связанных с организацией (собственников, менеджеров, коллектива, потребителей и прочих);
q способствоват созданию корпоративного духа;
q утвердит в сознании работающих сотрудников смысл и содержание их деятелности;
q подготовит внов приходящих сотрудников к включению в коллектив.
На самом деле выше приведены восемь основных ответов на три известных из литературы вопроса:
«1. Зачем этот бизнес учредителям (организаторам)?
2. Зачем этот бизнес нужен обществу (социуму)?
3. Зачем этот бизнес людям, работающим в организации?
Фактически ответы на эти вопросы объединяют в некоторую целостность три группы людей: лидеров, создавших организацию, клиентов, на которых ориентирована деятельность организации, и сотрудников организации»[4].
Таким образом, рассматривая миссию как многокомпонентное образование, мы снова видим «слияние» целей и ограничений (приведенная формула) и убеждаемся тем самым в ее латентности, поскольку фактически в формулировке миссии проявляется стратегический потенциал организации, неявно — для посвященных и явно — для всех остальных. Поэтому вполне логично привлечение контент-анализа к инструментарию, с помощью которого исследуются тексты, формулирующие особенности различных миссий.
Приведем полезное определение контент-анализа в дополнение к сформулированным в книге Ю. П. Воронова и А. П. Доброва: «Контент-анализ — это методика выявления частоты появления в тексте определенных интересующих исследователя характеристик, которая позволяет ему делать некоторые выводы относительно намерений создателя этого текста или возможных реакций адресата»[5]. Приложения контент-анализа весьма разнообразны: от мониторинга популярности средств массовой информации и политологических изысканий до маркетинговых исследований и классификации инноваций[6].
Практическое применение контент-анализа требует известной квалификации, тем интереснее проследить, как это сделано в книге на примере миссии компании «Белон». Наглядно результаты этого анализа представлены на рис. 3 (с. 63).
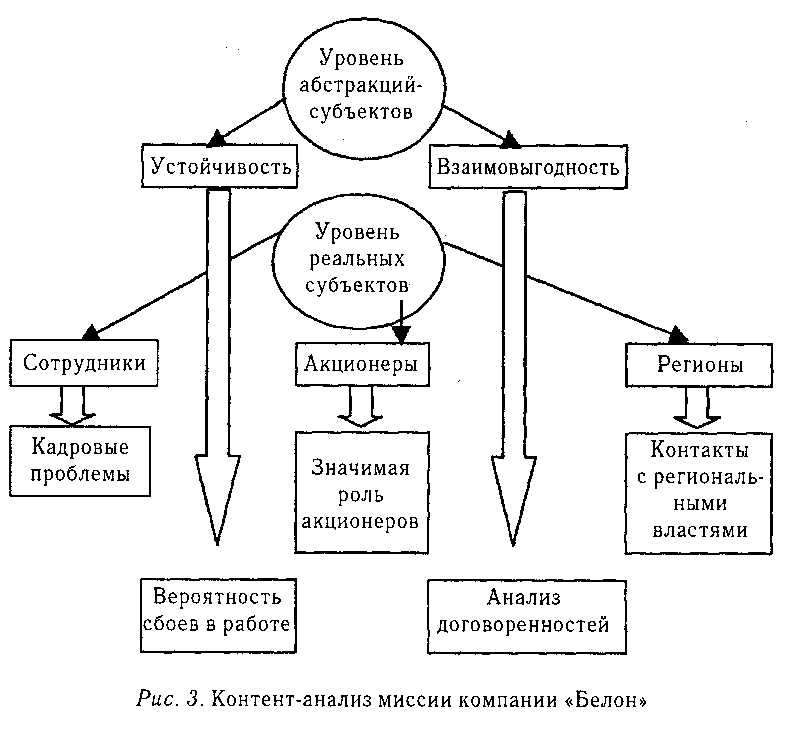
В небольшой по объёму третьей главе авторы возвращаются к инструментарию стратегических матриц в сочетании с экспертными методами, используемыми в маркетинговых исследованиях. Такой подход позволяет «проявить» латентность стратегии и оптимальным образом сочетать будущие и текущие интересы компаний, то есть снова найти некий компромисс между стратегическим планированием и реализацией стратегических планов.
Наконец, «на десерт» в книге продемонстрирована математическая эрудиция авторов: приведено очень любопытное применение теории функций комплексного переменного к анализу стратегических матриц. Неискушенный читатель может пролистнуть ряд страниц и найти в конце главы интересные практические выводы, касающиеся направлений деятельности всё той же компании «Белон», полученные с помощью указанного экзотического аппарата исследования. Выводы эти касаются соотношения перспективности и доходности, что, несомненно, заинтересует как теоретиков, так и практиков.
Общий вывод краток и благоприятен: оказывается, научная книга, изданная в академическом институте, может быть и увлекательной, и полезной, и интересной самым различным категориям читателей. И самое главное — стимулировать к размышлениям и экспериментам!
[1] Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях //Вопросы анализа и процедуры принятия решений (сборник переводов). М.: Мир, 1976. С. 172—215.
[2] Шмальтц Дэвид А. Слепые и слон. М.: HIPPO, 2005.
[3] Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Питер, 1999.
[4] См.: Сорина Г. В. Основы принятия решений. М.: Экономистъ, 2004. С. 67.
[5] Федотова Л. Н. Анализ содержания — социологический метод изучения средств массовой коммуникации. М.: Институт социологии РАН, 2001. (см. также www.vaal.ru).
[6] См.: Шалак В. И. Современный контент-анализ. Приложения в области: политологии, рекламы, социологии, экономики, психологии, культурологии. М.: Омега-Л, 2004.